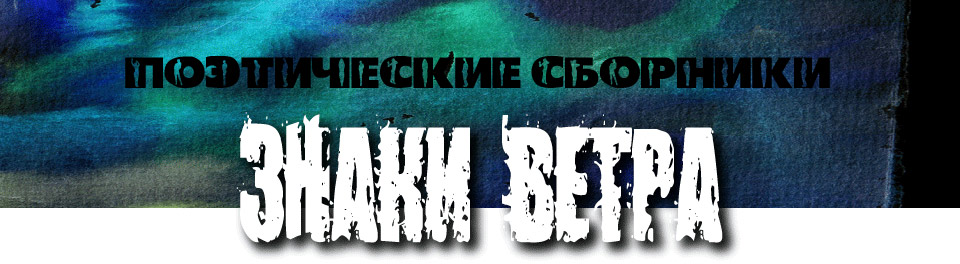Menu:
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА
Конечно, не удивительно, что Бог, создавая меня, запечатлел во мне знак, поставленный мастером на его произведении.
(приблизительно Декарт и почти Таранов)
В композиции «Чаша Ветра» (она может быть названа поэмой, но композицией всё же точнее) есть главка, в которой описывается – резво и лаконично, глубоко не вдаваясь, – работа и удовольствие переплётчика, получаемое им от милосердного к искусству и слову труда. Обучил меня кое-каким тонкостям этого ремесла, его правилам и секретам, Михаил Евзлин, он ныне издатель крайне редких вещей – неизвестных рукописей, в том числе.
Сама «Чаша Ветра» достойна особого внимания, но уделить ей добросовестный ломоть времени я сейчас не способен, а потому поговорим об этой тайной отдельности позже. Сначала, всё-таки, о книгах.
Мир книг... Я скучаю по нему, как могут скучать по покою самодостаточному, безмерному и в то же время совершенному в своих твёрдых границах! При этом – сам же сдавал их в библиотеки, за последние годы неоднократно, в общей сложности сотни полторы минимум, и по друзьям тоже – не один десяток.
Какая-то нелепица: с лёгкостью невероятной и непредсказуемой люди отказываются от книг – кто б мог предположить подобное в 19 веке, когда чтение книг (не газет, не рекламных листков и не путеводителей) было самым престижным делом; если ваш досуг был заполнен чтением, вам было обеспечено уважение, а сегодня лебеда вас ненавидит ЗА ЭТО!
Но я отвлёкся, возьмём себя в руки голоса разума и – никаких сожалений. А то затопчет ботва-то подлая и безжалостная, она ведь любит хруст белой кости... Не-не, не надо читать деревянные морали мне, ноль высокомерия с моей стороны – я констатирую факт, а не народовольничаю со сморщенным от отвращения лицом. Короче – правда дорогá, и она не без острых углов!..
Я работал в польском книжном магазине (с русским отделом) на улице Алленби Тель-Авива – в те на редкость замшелые для страны годы – неотреставрированного, неопрятного и накаченного омерзительной смесью запахов мочи и горелого соевого масла, бензина и загнивающим сором забитых уличных водостоков, людского пота и выхлопных газов города. Вернувшись из Европы после круга месяца в три и несколько тысяч километров продолжительностью, я был принят на бывшую работу к большой радости старых хозяев; мой «дублёр» не имел опыта работы с книгами, тем более – опыта составления каталогов антикварных изданий, букинистики и эмигрантских раритетов, поэтому приняли меня безоговорочно.
В то время ВСЁ как-то незаметно сваливалось на молодые голову и плечи, смотришь сейчас – диву даёшься: неужели! Помнится, за год до описываемых событий заявился к нам в магазин парень из Канады (или США: путано оно было, скомкано на скоростях, прошло время, пока до меня дошло – дутый дуб), ленинградец, кажется. Или одессит, ей Богу без разницы, забыл. Представился парень специалистом в области антиквариата (от живописи до хрусталя и мебели, включая Фаберже, конечно ЖЕ). Я с ним провёл двое или трое суток. В рестораны он водил нас: подруга его не столь счастливая – с любовью на него взагляд, – сколь всё-таки обманутая, и мы с женой; платил он за всех, рассказывал очень разное-интересное. Залетел я с ним в одну галерею на улице Бен-Еhуда, там картину любопытную нам хозяин предлагал. 20-30-х годов, подпись разборчивая: Хаим Сутин. Этот парень начинает мне втолковывать: вот смотри, говорит, перевернув картину «задницей», покупаются на блошином рынке ржавые гвозди – ногтем он ловко выковырнул один, – лента клейкая старая, и сбацанную подделку таким образом «одевают», вот и рама не новая-не старая, не вызывающая вроде бы подозрений... Словом, несмотря на смехотворную цену, отказался наш специалист. А я подумал: гвозди слишком ржавые, где купить такие, и гнёзда их с трухой... Потом в Яффо он торговался на тему хрусталя дорогущего, хозяин ему снизил цену процентов на 20, – так и не купил ничего. Мне-то что всё это?! Я хоть чему-то научился, спасибо и на том, но он так и не приобрёл ни иудаики, коей был завален Тверский, ни редчайших книг 20-х годов, ни картин, ни старинной посуды... А спустя лет тридцать я ту картину Х.Сутина в музее Иерусалимском увидел (Национальном, бишь) – вот вам и «специалист». И сегодня сижу, покалеченный мудак никому не нужный, и понимаю – потому-то всё и суетливо было с ним: на бешеной скорости – пыль в глаза! Только вот чего ради, неясно.
На то время (возвращаясь непосредственно к книжному делу) меня уже неплохо знали книжники: не только Тверский или Тимофеев (энтээсовец; Стокгольм, Париж и другие места концентрации книг). Вайскопф-коллекционер (спесивого литературоведа отец) очень любил посещать магазин Нойштайна, Зяма-скрипач, тоже коллекционер, может быть лучший из оставшихся здесь в живых. Многие знали магазин Нойштайна, приезжали из США, из Франции, из Германии, ну и я в Европе засветился основательно (например, у Радзиевского пришлось крепостную неделю отбить; а вот у Тимофеева – с удовольствием, хотя тяжелее было). И пришёл однажды человек, хорошо знающий русский, но с неясным акцентом изъясняющийся, говорит, что очень ждал моего возвращения и – сразу к делу. Речь шла о библиотеке покойного брата, известного актёра. Он за неё определённую сумму хотел, а Нойштайн отреагировал так: «Он приходил сюда летом, мы не берём за такую цену – даже смотреть не поедем». На свой страх и риск я решил взглянуть, очень расхваливал дядечка товар, говорил – ценные книги.
Коллекция оказалась из пятисот с небольшим титулов, в состоянии – ниже виртуальной критики (пардон за вольный анахронизм). Важнее другое: огромное количество книг иметь, или хотя бы ознакомиться с которыми, был бы не прочь каждый из требовательной и любознательной волны эмиграции 70-х. Переговоры с владельцем были долгими. Выяснилось, что кто-то из этих братьев ещё и поэт ко всему. По ходу дней тогда я ушёл от Нойштайна с целью стать самостоятельным, но на определённых условиях: за книги, мною предложенные в его антикварный каталог, я получаю высокий процент от выставленной цены (не помню точно, чуть ли не все 100) в случае продажи, а взамен составляю четыре русских каталога безвозмездно. Разумеется, большинство названий в каталоге должно быть из магазина, но наши (сама затея книжного бизнеса была совместной: мой близкий друг был моим же партнёром – искали книги вместе по Израилю на его машине, скупали вместе, пополам делили доход, естественно, и т.п.) в любом из этих каталогов тоже представлены солидно – в количестве.
Помимо собрания, о коем никак не получается разрулить рассказ, много всякого с Давидом мы «подобрали». Оказалось, некоторые городские и университетские библиотеки с радостью свой «русский сток» спихивают – лишь бы кто-нибудь забрал, хоть бесплатно, место зато освободится! В основном, конечно, всё было либо в плохоньких любительских переплётах, либо без «одёжки» (в случае «доисторического» возраста), но найти можно было самые неожиданные вещи. Скажем, ценный опус белого генерала, осевшего в Аргентине после Второй Мировой, изданный им там же в 1960-е годы. Как раз в хорошем состоянии экземпляр. Это был труд на 150 примерно страниц, посвященный будущей мировой войне. Предсказание, основанное на очень толковом анализе общемировой политической ситуации. Обложка представляла собой политическую карту мира с обозначенными крошечным цветочком пламени центрами будущей перманентной войны с террором: поразительно, насколько точно! Бестрепетное изложение автором своего вИдения лишено было эмоционального окраса до смертельного обезвоживания (позволю себе гиперболу из больничного быта)... Всего не перескажешь: попадались нам довоенные издания Сирина, любительскими переплётами – халтурными и аляповатыми – убитые для коллекционера, а то и – дореволюционный Клюев (в Израиле: Клюев!), их перечислять – душу травить.
Не очень понятно по какой причине Хальфи – владелец собрания – перетащил предназначенные на продажу книги в подвал основного Тель-Авивского музея (того самого, где Архипенко поражает внезапной репрезентативностью, в России такого нет). Наверное, отобрал для себя необходимое, зная нашу молодую настырность, могли ведь выцарапать совершенно нагло, – пришлось бы ему переживать о том. Словом, не знаю. И потому настоящее ознакомление с библиотекой произошло как раз там – на уровне моря. Разбирая все эти коробки и ящики, пересчитывая, перелистывая и т.п., я наткнулся на сказания об Орфее издательства «Academia», редчайшая книжечка, названия в точности не помню. Ну и начал расхваливать. Когда мы все книги перевезли ко мне, я её не нашёл среди купленного – Хальфи, видимо, присмотрелся к ней повнимательней и решил оставить у себя. С одной стороны – он правильно сделал, с другой стороны (с моей, в смысле) – я убедился, что коммерция абсолютно не моё дело: ругать надо было, а не расхваливать. Ну да ладно, нечего жалеть – эпопея нашей покупки была суперсложной, витиеватой, замешанной на ядовитых шутках и безжалостной критике с моей стороны (относительно Израиля, в первую очередь), к тому же – мы явно перестарались: с такой расточительностью настоящий бизнесмен взял бы коллекцию в полторы, а то и две тысячи книг. Понимая это, я упросил Давида, человека более мягкого из нас двоих, съездить к Хальфи с целью сбить цену. Не удалось почти, Давид съездил, но сэкономили мы всего 200 долларов, меньше 10%. Правда, я всё же настоял на том, чтоб двух-, трёхтомники и журналы (не важно, сколько номеров) считались за титул – иначе, вообще без штанов бы остались: переплетать книги никто из нас не умел, а в переплёте под сотню изданий нуждалось. Не говоря о других, собранных нами. Сам же Хальфи недели через три после сверхнервозного месяца от переживаний схлопотал инфаркт, к счастью, выжил. Деньги ему были нужны на учёбу дочери. Наши траты окупились с лихвой, и дело не в долларах, а в книгах – мы получили простой доступ к большому количеству недоставаемых, совершенно замечательных произведений. Смешно или нет, удивитесь: том Андрея Белого (всего лишь) из большой серии второго издания «Библиотеки поэта» достался нам от Хальфи, и за годы своей деятельности «свободного книжника» я не припомню, чтоб это издание через меня проходило во множестве, максимум – один раз, через много лет. А этот том – далеко не раритет, в собрании покойного брата Хальфи были книги и 20-х годов, и постарее. Вот так.
Оттуда и началась история, что пишется сию секунду... Вышли мы на Евзлина, пригласили Мишу в Рамат-Ган ко мне – Давид встретил на Центральной автобусной Тель-Авива (в то время – самое мерзкое место на израильском побережье запада и востока страны) и там подхватил. Евзлин нам объяснил принципы технологии, вплоть до секретов: какой клей в том случае, а какой – в другом, что с нитками при прошивке, как шить кэптол (и надо ли), немного рассказал о реставрационном процессе и уехал, оставив нам телефон лучшей переплётной в Иерусалиме и своего друга-коллеги – ремесленника высокого класса. В скором времени я обратился к этому другу, заказал переплёт двух книг: переплёт «Заратустры» (дореволюционный Ницше в классическом переводе), в коже с «рёбрами» и уголками – когда-то такие звались полукожаными, – с тиснением позолотой, а шрифт – италик, что придавало экземпляру особый шик (позже псина Давида не удержалась и хватанула клыками свежую кожу, уж больно вкусно пахла эта книга: Давид едва пережил непредсказуемый алчный выпад своей собаки), а вторая книга в те годы ещё более неожиданная – это прекрасное издание Бонзельса «В Индии», ГИЗ 1923 года, с очень качественной обложкой художника Евгения Белухи, к сожалению, не дожившего до освобождения от блокады, умершего в Ленинграде в 1943 году. Переплётчик с пониманием подошёл к задаче – сохранил обложку полностью, по каким-то своим соображениям форзац сделал тройным, книгу приятно держать в руках, шитые кэптолы, мраморная бумага и брезентовый торец – всё замечательно! (Но писателя Вальдемара Бонзельса Википедия фактически не знает!., нормальной статьи нет, хотя упоминания имени ей известны), за оба переплёта я уплатил 70 долларов, немалые деньги в 83 году. Работа того стоила без дураков, а вот сегодня профессионально выполненная работа, пожалуй, и вовсе дорогостоящая находка. Мне, не имеющему мастерской, т.е. я без необходимых приспособлений, за квалифицированную работу по переплёту не помню какого старья сто долларов предлагали за экземпляр (и то – лет пятнадцать назад!), – а я далеко не именитый переплётчик, хотя секреты знаю. Чтобы отказаться от работы я начал перечислять: но у меня нету кожи. – Мы достанем кожу, скажи какую... Мне пришлось поднапрячься и понапридумывать, меня ещё пресс выдавал – клёвый ручной пресс 30-х годов прошлого века в прихожей – в глаза бросался при входе. Еле отбоярился...
Стоит всё-таки вспомнить и ещё кое-что: пока я осваивал азы благородного ремесла, последний высококлассный переплётчик в Тель-Авиве уговаривал меня выкупить его дело, за что обещал в первый год профпомощь, клиентуру полностью предоставить (перевести на меня) и бесплатную консультацию. Я ходил к нему, свои «достижения» показывал, советовался; Боже мой, сгинуло это всё, словно и не было. Статью об этом переплётчике в одной из ведущих газет Израиля озаглавили «Последний из могикан» в 80-е годы. Последний из могикан Восточной Европы, надо заметить: Каэн, вроде бы, была его фамилия. Могикане Восточной Европы действительно вымерли, может, Западной ещё живы: итальянские, например, переплётчики – высокой квалификации. О немецких мечтать не стоит – не могут они сохранять «боеспособность» в 120 лет, не бывает!..
Не хочу оставлять тему КНИГИ, не досказав о семействе Нойштайн. И несколько слов – вдобавок – об Эрнсте Хейфеце.
Кто навёл меня на этот магазин – не помню, скорее всего то была Светлана, начитанная подруга, ныне жительница Швеции. В первый же свой визит (зимой 77 года) я купил Набокова, о чём писал недавно, и Бердяева. Стал постоянным клиентом очень скоро, познакомился с ответственным за русскую часть ближе, а с хозяевами моё тесное знакомство – тёплое и дружелюбное – произошло спустя два года, по принятии к ним на работу.
Эрнст – человек яркий, выпуклая личность. Во всех смыслах. Он был театральным режиссёром. В каком театре – не знаю точно, помнится (почему-то), что в театре имени Ленинского комсомола. А может быть – имени Ленсовета. Я не театрал (а уж в СССР – тем более НЕ), посмотрел в Википедии – о Хейфеце ни слова. Вообще ни одного. Эрнст поставил спектакль к 100-летию Ленина (так оно в памяти, но буду рад получить достоверную информацию – жалко вот, непонятно от кого: поэтесса Виолетта Иверни его знала, по-моему, Василий Бетаки его знал, книжники-коллекционеры, кто живой, а я растерял все концы, и с его бывшей женой – также), насыщенный «сомнительными» фразочками, что разнообразному ленинградскому начальству пришлось не по партийной душе, бляха-муха, и над Хейфецом сгустились краснопсовые тучи. В короткий срок они его «вымели» (единственное, что умеют в России быстро – вымести, – се то самое хамство и та самая тупая сила, токмо не в очереди али троллейбусе), – сослали в Дагестан поднимать культуру подмостков. Два года он там пробыл, попал однажды в ураган, говорил: с бешеной силой ветер дует, подхватил меня и секунд, наверное, двадцать над тротуаром я летел, перебирал ногами в воздухе. Эрнст был глубоким знатоком русской литературы, необыкновенно эрудированным человеком, мало кто в России 70-х знал о существовании группы 41˚, разве что в Грузии чуть больше, а Хейфец, как позже выяснилось, был в курсе. Коллекционеры его уважали, я же его коллекции толком не видел, по-моему, основная библиотека в Ленинграде осталась, но он без книг жить не мог – покупал их пачками. Характером очень тяжёлый человек, чуть полноватый, с огромным лбом, ведающим незаурядностью интеллекта, с внимательным, я б сказал – читающим вас взглядом, с прекрасным савецким чувством юмора, Эрнст не выдержал левантизма, самодовольного невежества и сытой похуистики. Когда он ставил «Закат» Бабеля здесь (будучи знаком с известнейшим режиссёром и коллекционером, по израильским меркам столпом и основателем школы, – обаятельнейшим Нисаном Нативом), Эрнст столкнулся с Востоком в упор. В девять утра режиссёр приходит – всё должно быть готово к репетиции. Не тут-то было: где рабочие? почему сцена пустая? – они кофе пьют, вполне обыкновенно отвечают актёры Хейфецу...
Кроме Бабеля, кажется, по «Блуждающим звёздам» Шолом-Алейхема был им ещё поставлен спектакль (не ручаюсь, опять же, за верность). Какое-то время он примеривался, судя по всему: что, куда и стоит ли? – затем Эрнст уехал, в 1979 году. Сначала во Францию. Не оселось ему там, уехал в Калифорнию. По-моему, в Лос-Анджелес. В конце 90-х Эрнст Хейфец – неуживчивый и совершенно неординарный человек, – застрелился. Я его понимаю. Ни тени упрёка: так поступают сильные люди, потерявшие всё.
Именно Хейфец меня научил работе с букинистикой и антиквариатом, от него я многое почерпнул относительно эмигрантской литературы. Я благодарен судьбе, что свела меня с этим человеком. В 90-е, познакомившись с Н.Нативом, я спросил у него, помнит ли такого? – Эрнст, конечно. Бабеля сделал, хорошо поставил. Но невозможно с ним было, человек без языка вообще: приставили к нему переводчика один раз, на второй спектакль, но не навсегда ведь! – отреагировал Нисан, а что тут ещё добавить? Без языка невозможно, Эрик по-английски с трудом волочил (общая беда среднерусской интеллигенции), Нисан знал шесть языков, но не наш...
Хейфец надоумил Нойштайна заняться антиквариатом: каталогами на весь мир по университетам и – скупка редкой букинистики, эмигрантской и не только, довоенных (ВМВ) и дореволюционных изданий, без акцента на иудаику (поскольку Тверский эту нишу занял плотно). Эдмунд Нойштайн – приятный, по-европейски воспитанный, польский антисталинист, убеждённый и эрудированный, начитанный и незацикленный человек (наша ссора – идиотская нелепость по невнимательности моей, точнее – непониманию некоторых нюансов местной псевдоцивилизованности, я жалею о том ужасно, а свой прокол понял спустя много лет, – поздно было).
Итак: Эрнст с подачи коллег из Франции убедил Нойштайна заняться этой отраслью, а Нойштайн среди поляков (в смысле, польской диаспоры по белому свету) занимал особое место: эмиграция в Израиль была многочисленной, образованной, знающей несколько языков – почти каждый из клиентов магазина говорил по-русски или понимал русскую речь, многие знали немецкий и т.п., – с большими ноозапросами и, соответственно, с немалыми личными библиотеками. Поэтому сама затея не казалась проигрышной, и впрямь – заказов на книги из польского списка было больше в целом, чем на русские. Хотя русскую часть, бывало, сотрясали фантастические «просьбы» – мы не знали что делать: скажем – из Васэды (токийский университет) письмецо со списком, заказ на 65 титулов на сумму в тысячу восемьсот, если не больше, долларов. Но! – с огромным опозданием (я проработал три года у Нойштайна: сия история повторялась неоднократно с этим университетом, с другими тоже случалось), и подавляющее большинство книг из того списка давно распродано; потому что не зевали в библиотеках англосаксонских и европейских университетов, как в Японии, и на «потом со всех сделаем» (сразу из трёх-четырёх каталогов) не откладывали. Выжидать надо было максимально в подобных случаях – вдруг найдётся несколько титулов из проданного, ведь люди приносили книги, я искал по развалам, Шеф (так мы звали Эдмунда) свои возможности мог использовать: польская публика очень любила и ценила русскую литературу, я такие отзывы о русском языке слышал (от польских женщин!), что – в слёзы от любви...
Жена Шефа – Ада – отвечала за наиболее бойкую продажу, если можно так сказать: детективы и приключения, женский роман, а также книги сдаваемые на прочит по библиотечному принципу, но за небольшую плату. И немалую часть таких книг Аде приходилось постоянно подклеивать. Она любила посмеяться, шутки у неё были грубоватые и острые, зачастую не в бровь а в глаз. Немного мне известно из прошлого этой семьи. Насколько я понял: во время Второй Мировой семейство Ады спасло какого-то еврейского ребёнка. А вот «образец кошмара»: идём с Адой на рынок, Шеф меня часто просил помочь Аде. Подходим. Ада показывает на мужика, продавца то ли свинины, то ли ещё чего-то – не столь важно, – и говорит (я кое-как просекал польский): я хорошо знаю, что вот этот тип – мразь, говно последнее, но он был печником в Освенциме, ты понимаешь? Я киваю – в бессилии, не соображая что сказать, как продолжить, чем подтвердить – или наоборот? – факт собственного опизденения от такого «знания» (нынче сказали бы «информации», но Ада не информировала, прости Господи за казёнщину – сам себя же загнал сгоряча: Ада делилась своими мыслями) – НУ ВОТ КАК ТУТ СКАЗАТЬ!?!
Есть такое выражение: пить горькую. В случае Ады очень точное выражение. Она пила горькую. А горькую пьют, как известно, от горькой жизни. Ада постепенно спивалась, медленно, незаметно, но горько и уверенно. Их сын, кажется, архитектор, приходил помогать однажды – целую неделю со мной проработал. Говорил со мной на иврите в основном, его польский я хуже улавливал. Как-то зашёл разговор о том, что слишком медленно продвигается у нас работа, и всплыл, разумеется, образ черепахи. На иврите эта рептилия в один слог, и когда я ему произнёс это слово на русском, он выпал в осадок от смеха. Он хохотал от слова «черепаха» несколько дней, поделился с отцом, Шеф ему объяснил, что в этом слове скрывается «череп» – не помогло, он продолжал веселиться и буквально запал на это слово, заболел им. Всё было с юмором: ты приходишь на работу, тебя встречают словом «черепаха»! И в течение дня оно произносится раз десять, произносится и – поднимает тонус, что очень важно...
Я проработал у Нойштайна с начала 1979 года по конец 1982 с двумя перерывами на три и четыре месяца. Составив напоследок, как и договаривались прежде, четыре русских каталога с книгами Нойштайна и нашими, в дальнейшем я только позванивал в магазин, Шеф сообщал мне о заказах, оставалось доставить ему заказанное и рассчитаться, что и происходило на протяжении года, если не дольше, пока сдуру не заподозрил его (на что вообще не имел права!) без особых оснований. Эдмунда это возмутило до фибров... Очень жаль, что так произошло – я был неправ.
Дабы закончить, поскольку тема чрезмерная и легко утонуть, должен признаться: с моей стороны ошибок профессиональных – т.е. ошибок книжника, – за годы работы в польском магазине было допущено немало, и в своё оправдание могу сказать лишь: начинал-то я с нуля, ошибки при таком раскладе неизбежны, порой даже грубые – тут никуда не деться. Своему следующему партнёру по книжному бизнесу (и по культуртрегерской тропе конца 80-х), Сергею Шаргородскому, я не раз повторял: Серёжа, мы продаём не книги, а – знание!..
Ну что ж! – всё-таки я научился переплетать книги. Не супер-дупер, но научился. И потому сей факт своевременно отразился в поэме (пардон: залетел, даже нет, не так, а: впорхнул в композицию и невольно застыл). Читатель, надеюсь, помнит, что начал я с «Чаши Ветра»...
В предыдущем абзаце самое правильное слово, помимо глаголов, – своевременно. Очень сложно втиралось моё сознание в это полотно – поначалу так легко всё «свершилось», за пять дней строк 160-170 были готовы, а затем: за камнепадом камнепад – осыпáлся текст. Получилось, что с этой композицией (или – коллажем) я боролся несколько лет. Бывает: сравнительно непростая, с точки зрения художника, ситуация в два-три присеста находит решение и... поздравляем и справляем: всё как надо – отдыхай. А тут сравнительно простая, думал я, ситуация, но года три понадобилось и подходов – чуть ли не десяток, дабы довести до ума одно из самых сложных (где столкновение эстетик зафиксировано!) моих произведений.
Сейчас на это я смотрю как на закономерность развития, а не случайную борьбу: художественный поиск автора продолжался, чтоб не сказать – всего-навсего начат, поскольку первый набросок этого коллажа сделан в 84 году, в мае. (Или в июне – 4-я часть была написана по свежему ночному следу; средиземноморская ночь на прибережье с мая по конец октября завораживает, а если ты сравнительно далеко от моря – 10-15 км, то влажность не столь бесцеремонно подавляющая, и ты способен выйти на простор, – выйти, чтоб насладиться: красота стрекочущих ночей, их «бархатная смоль», чёрная-чёрная несмотря на щедрую звездистость безоблачного неба, гипнотизирует; я был влюблён в эту климатическую особенность, и годами впечатление ничем не стиралось – пока Израиль не стал бешеными темпами застраивать центр страны везде, где только можно). Тогда вещь состояла из пяти частей, выжило из них три (1, 2-я и 4-я), причём второй кусок основательно переписан примерно через год, а вот первый и четвёртый подверглись лишь «косметической» правке. Но в целом достойное решение никак не обнаруживалось вплоть до 87 года, хотя мне было далеко не всё равно – ниже я объясню почему столь ревностно цеплялся за эту композицию; «ладно, не получилось, не страшно,» – так вопрос вообще не стоял. Я обязан был её спасти – хоть зараза и война! И потому возвращался к ней, садился вновь, искал и писал, зачёркивал, и снова писал – давал отстояться, прислушивался, зачёркивал и... опять писал. Приблизительно спустя год, как я и сообщал выше, свойственный уму и сердцу интуитивный поиск привёл меня к чёткому пониманию собственных пожеланий, что в свою очередь определило задачу и возможности художественного решения.
Впрочем, не всё так просто. Дабы картина получила чуть более зримые очертания, уточню: мне стало ясно, что «найденную монету» герой должен рассмотреть полностью в рамках одной части композиции. До того данный аспект я совершенно упускал из виду, не уделяя должного внимания извечному вопросу взаимосвязи между деталями и необходимостью сокровенного равновесия, и потому целое тяжелело, заваливалось и осыпАлось к моему недоумению. Но покончив с данной проблемой и, наконец-то, нащупав и уплотнив центр тяжести композиции, я столкнулся с тем, что третья часть коллажа (из бывшей версии) неуместна и совершенно меня не устраивает. Тогда начался поиск третьей части. Сколько вариантов было отброшено, не могу сказать. Зато в том, что найду, я был уверен – хотя в аналогичных случаях мне всё же симпатичней другая формулировка – «верю», а не «уверен», – сути это не меняет. Результата тоже. Где-то после пяти-шести подходов (в течение двух лет!) «вдруг» осенило: я ведь постоянно то подлечиваю, то конкретно сшиваю и переплетаю книги, надо ввести как-то в текст, запечатлеть это шитьё – пускай вскользь, но надо упомянуть, композиция-то решающая! Своя эстетика в ней утверждается!..
А теперь о личном, в известном смысле – интимном.
В 84 году количество набросков, т.е. вещей недоработанных, зашкаливало. Но со мною была вера. Вера в своё предназначение – феномен трудноописуемый. Хуже того – чем больше слов мы этой теме посвящаем, тем скорее правда от нас ускользает. Тем не менее, с полной ответственностью здесь печатаю (в полутьме): она – вера художника слова в своё предназначение, – не столько мне представлялась моим стержнем, сколько им непосредственно являлась. При таком положении «дел» момент истины заключается в том, что ты не где-нибудь на улице или за бутылкой водки с друзьями уверенно расправляешься с современностью, а – в рабочей уверенности, т.е.: терпение, изо дня в день, шаг за шагом, ты на верном пути, спокойнее, инфантильной невростении – война, шаг за шагом – вдохновенно и с азартом – ты на верном пути, только точность!.. Началось это чуть раньше, в 83-м; но сейчас всё же об ином – о «Чаше Ветра».
Когда была закончена первая версия композиции, я вставал из-за стола довольный достигнутым за те дни. И на мгновенье призадумавшись над возможным названием, услышал – буквально прошелестело над ухом – слово «чаша», а через короткую паузу в секунду (если не меньше того) другое слово – похожее на «отказался». Чувствовалось – скомканное что-то утонуло в этой паузе, исчезло, как будто сказанное унесло беззвучным вихрем. Услышанное слово «чаша» в данном контексте скептику покажется естественным глюком: в финальной части композиции появляется чаша, и потому вроде бы ничего удивительного – автор услышал и без того напрашивающееся в качестве названия. Ну-у, допустим. А что со вторым словом, как это понимать? – объяснение типа «померещилось» не принимается: мерещится политикам, функционерам и патриотам подлого рода, тупым чиновникам минздрава и прокурорам, параноикам и эмдэпэшникам, журналистам по пять раз на дню, но не поэту... Очень загадочно.., даже нет, нечего углы сглаживать беспричинно: выглядело оно больше, чем загадочно. Таинственно оно было. И сильно меня озадачило. Именно поэтому я вцепился в эту вещь, о чём уже говорилось, и не забывал о ней: по любому завершить, по любому – планка выше возможного!..
Итак, вещь была закончена в 87 году летом – я готовил первую книгу к выпуску, тогда и нашёлся вышеозначенный выход, была поставлена точка. Но нить нашего нарратива ведёт дальше, как вы догадываетесь.
Спустя много лет, в 2010 году, как помнится (было прожито и пережито, не говоря про выпито, так много, что перед Богом я дал обет навсегда завязать с алкоголем, включая пиво, – и к тому дню четыре года держался, и дальше чист перед Ним и – не жалею), я приобрёл посмертное собрание Евгения Хорвата «Раскатанный слепок лица», вышедшее в издательстве Владимира Орлова под маркой Культурный слой. Это – из немногих маленьких российских издательств с порядочными людьми во главе. С автором книги меня фактически ничего не связывало, познакомила нас Катя Капович в Иерусалиме за год, наверное, до смерти Жени. А может, и того меньше. Вёл он себя как-то неуверенно.
Я терпеть не могу скромность навыпуск, но она свойственна русскому человеку и в менталитете сидит с крепостной поры, когда всякий – хоть актёр неповторимый, хоть Левша ты, – должен был шапку ломать перед барином, пускай барин этот самый и в подмётки не годится мастеру, – всё равно гнись, веди себя скромно. Ныне подобного рода «скромность» является дешёвой маской у людей самоуверенных, чтоб не сказать самовлюблённых, и навыпуск она, чтобы сразу понятно было – сия персона крута невпроворот!
К чему я веду? Поначалу некая неуверенность в поведении показалась мне той самой фальшивой скромностью, за которой мы должны узнать личность экстраординарную, но минут через десять в ходе разговора он признался, что из поэзии ушёл в фотографию и т.п. – в «пластику», в общем. И тогда его поведение стало понятней: ему-то ясно было, что собеседник говорит с «другим», не с тем, кем Хорват является. Звучит оно немного занозисто, но бывает и такое в жизни, придётся это принять, читатель. Я к тому, что наша встреча никак ни на что не...
А теперь – вперёд, к сказанному раньше.
Я был в шоке, узнав о самоубийстве совсем молодого и одарённого парня. И потому с удвоенным вниманием отнёсся к его наследию. Скажу без расшаркиваний: проза его это проза эмдэпэшника без каких-либо экивоков – так ведут себя люди с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. К сожалению, знаю о том не понаслышке. И описанное им утыкание в один и тот же тупичок есть симптом маниакальной зацикленности независимо от – «врачи усмотрели-врачи не усмотрели». Кстати, и невозмутимая наглость, с какой ведёт себя герой этой прозы – из той же серии. Стихи же его – стихи талантливого молодого человека. Но! – чем более я углублялся, тем больше вопросов возникало, и вопросов непредвиденных. Когда в центре Иерусалима Хорват подарил мне свою маленькую книжицу, даже тени недоверия к его таланту в мыслях у меня не мелькало; прочтение же его наиболее поздних стихов (середины 80-х) кардинально меняло ситуацию. Попытаюсь тут внятно объясниться.
Регресс состояния души – одно, регресс письма – совершенно другое. Взаимосвязаны ли эти вещи – вроде как должна просматриваться прямая связь, да не всегда доказуема. Нередко – наоборот происходит. Опостылевший пример Ван Гога по сей день маячит образчиком «успеха». Ломброзо, родись он в середине 20 века, оставил бы нам исследование на несколько томов, причём – в двух первых одна точка зрения могла бы быть основной, в двух других – на все сто противоположная. Вот и я колеблюсь, не претендуя на вынесение вердикта – я ведь не врач. Зато о кочующем слове и кочующих смыслах мне хорошо известно. Мне также хорошо известно, что Господь некогда дал – предоставил! – свободу выбора людям. А художников (в самом широком смысле этого старого доброго слова) я к числу людей некоторым образом продолжаю причислять. Несмотря ни на что. И потому – сколько причин и поводов набралось, а! – вовсе не нуждаюсь в высосанной из младых пальцей концепции Зашоренного заградительным чертополохом наукообразной терминологии, чтобы отнестись к мистической проблематике переадресовки Аполлоновых намерений с полным пониманием и серёзностью.
Итак, одно мне ясно: с 84 года поиски Евгения Хорвата пошли по амплитуде нарастающей. До той поры стихи Жени «как бы» обыкновенней. Часть написанного в этот год вошла в сборники, часть – нет. Почему у него так, не знаю, не собранное (стихи 1981-84 годов, не вошедшие в сборники) и уровнем поиска НОВОГО, и накалом этого поиска не уступают ничем – разве что размахом, если угодно – масштабностью ЗАЯВКИ. Но это не моё дело. Ну-у и: читаю, размышляю, удивляюсь порой, талантлив Женя вне сомнений... Но заявка – сродни соскальзыванию в омут имени врача упомянутого, психиатра... И вот – наконец!
Я был потрясён, обнаружив (в собранном!.. т.е. книжечка эта существует, с рисованной обложкой, тиражом, небось, 50 экз., что на автора очень похоже) следующие строки (112 с. собрания):
! |
||
! |
||
! |
||
А |
||
| ИБО СНОВА УСНУ И ТОГДА УВИЖУ | А |
|
| что подношу руку к некоей Чаше | А |
|
| и косым ударом расплёскиваю | А |
|
| на каменном полу. Под ноги, под ноги, под ноги - | А |
- поднимается крик мой |
| к каменному небу с Изображеньем... | ||
Это книга «Хореи бега» (1984-85), цитата из «Зимней истерии 1984 года», вещь под №15.
Судя по всему, сон этот он видел не один раз. И снова наносил «косой удар»!
И тогда мне стало ясно ЧТО я услышал и ПОЧЕМУ это было произнесено по написании (пускай наброска!) «Чаши Ветра». А также стало ясно, почему в те годы композиция «Чаша Ветра» была столь важна душе!
Нагария, февраль-март 2018
Отзывы и комментарии: "ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА" >> ![]()